Было бы неправильным недооценивать положительное влияние, которое оказала на концептуальные основы западной психосоматической медицины эта сильная критическая струя. Если мы сопоставим, например, ранние, весьма наивные представления о принципах регрессии и конверсии, существовавшие в 30-х – 40-х гг. хотя бы у Ференчи, автора “Талассы”, у Ранка или даже позже у Сола и Лайонса, выводивших генез и симптоматику дыхательных расстройств из стремления больного к возврату в ранние фазы онтогенеза [9], с пониманием, которое предлагается Энгелем и Шмалем [4], то легко подметим, насколько более интересным и глубоким, более тонким становится постепенно и сам принцип конверсии в ограничительном истолковании этих последних авторов (сведение роли конверсии к определению не существа, не качества органического синдрома, а только зоны, физиологической системы его преимущественного проявления и т. п.). В настоящее время происходит, по-видимому, вообще определенный отход психосоматики на Западе от проблем традиционного психоаналитического стиля и тем самым усиливается ее стремление к более 206 широкому охвату проявлений болезни, чем учет только зависимости последней от фактора бессознательного (Хорошее представление об этом сдвиге дают слова одного из видных теоретиков психосоматического направления, бывшего президента Американского психосоматического об-ва У. Грина: “Несомненно, возросшая строгость исследований помогает отделять существенное от несущественного. Но эти данные редко приводят к постановке адекватных новых проблем и к формулировке пригодных ответов… Я сомневаюсь, что ответы на наши вопросы будут получены в результате более глубокого изучения “бессознательного”. Наиболее важное развитие в нашей области за последние 25 лет – это изменение теоретической перспективы. Оно выражается в повышении интереса не только к проблеме болезни, но и к проблеме здоровья… Сегодня уже не занимаются так много тягостными эмоциями вины и гнева как ускорениями болезни… Может быть больше всего дает понятие “coping”, которое в общих чертах можно определить как то, что позволяет сохранять психологическую и физиологическую устойчивость, вопреки отрицательным эмоциям” [6]. Вряд ли можно не заметить, насколько отклоняется все это развитие мысли от канонов и традиционных интересов психоанализа и “классической” психосоматики и насколько оно приближается к кругу вопросов, все более активно разрабатываемых л за рамками психосоматической медицины).
И, однако, несмотря на все это, конверсионная концепция продолжает стоять перед непреодоленными трудностями, когда она пытается как-то систематизировать и обобщать накопленные ею данные. Ж. Валабрега было, во всяком случае, не так давно отчетливо сказано: “Механизм истерической конверсии от нас до сих пор ускользает” [8]. И весьма интересно, что причины этих трудностей многие даже из убежденных сторонников конверсионной трактовки видят в настоящее время в недостаточности знаний о биологических (а если говорить точнее, о физиологических) связях, существующих между нарушениями эмоциональными и нарушениями соматическими. “Любые рассуждения о механизмах, на основе которых комплекс “giving up – given up” (Трудно переводимое, используемое Энгелем и Шмалем условное обозначение зажного, по их мнению, психологического сдвига, имеющего часто патологические последствия. В структуру этого комплекса входят в качестве его основных компонентов переживания беспомощности и безнадежности) приводит к соматическим нарушениям, должны включать соображения по поводу его биологического аспекта” [4, 361]. Так, хотя и с большим запозданием и не в очень четкой форме, постепенно, по-видимому, в рамках самого психосоматического подхода созревает мысль о том, что на основе использования только психологических категорий раскрыть представление о природе психосоматической связи, – о ее механизмах, принципах, законах, – принципиально невозможно.
(6) Такой, если ее характеризовать, конечно, лишь в самых общих, грубых чертах, вырисовывается эволюция представлений о психосоматической связи, основывающихся на идее конверсии. Подход к проблеме этой связи, характерный для советских исследователей, также на протяжении последних десятилетий развивался, но, как мы это уже указывали, совсем иным образом.
Если мы попытаемся проследить основные идеи, двигавшие это развитие, то здесь на передний план выступает следующее.
В возможности прямого отражения в определенных клинических синдромах психологического содержания эмоционально напряженных переживаний у Павлова, при всех его расхождениях с Жане, сомнений, как мы это видели, не оставалось, хотя объяснение этого феномена было дано им без какого бы то ни было обращения к функции символизации. Такое общее понимание не исключало, что при достаточно массивном “обрастании” органического ядра синдрома функциональными наслоениями, – явление, как известно, отнюдь нередкое, – своеобразные формы прямой связи между синдромом, течением болезни, с одной стороны, и душевной жизнью больного, его осознаваемыми и не осознаваемыми психологическими установками, стремлениями, аффектами, с другой, можно наблюдать в отчетливой форме в клинике даже наиболее грубых органических расстройств. Особенно, общий характер течения органического процесса – “судьба болезни”, ее прогрессирующее утяжеление или, напротив, ее регресс – оказывается весьма часто зависящим именно от этих функциональных компонентов страдания, способных маскировать и даже, на какое-то время, изменять направленность необратимых (в конечном счете) сдвигов собственно органического порядка. Именно отсюда – так хорошо знакомые каждому клиницисту “непонятные” ремиссии при заведомо прогрессирующих органических расстройствах или, напротив, трудно объяснимые утяжеления болезни при слабой выраженности и медленности развития ее органической основы, словом, все те особенности заболевания, которые невыводимы непосредственно из топики патологического процесса, из его патофизиологических, биохимических, иммунологических и других объективных характеристик.
специфичность – предыдущая | следующая – болезни
Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Том II



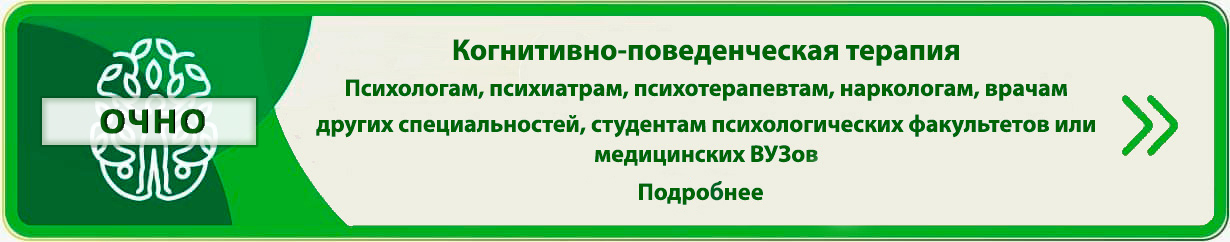


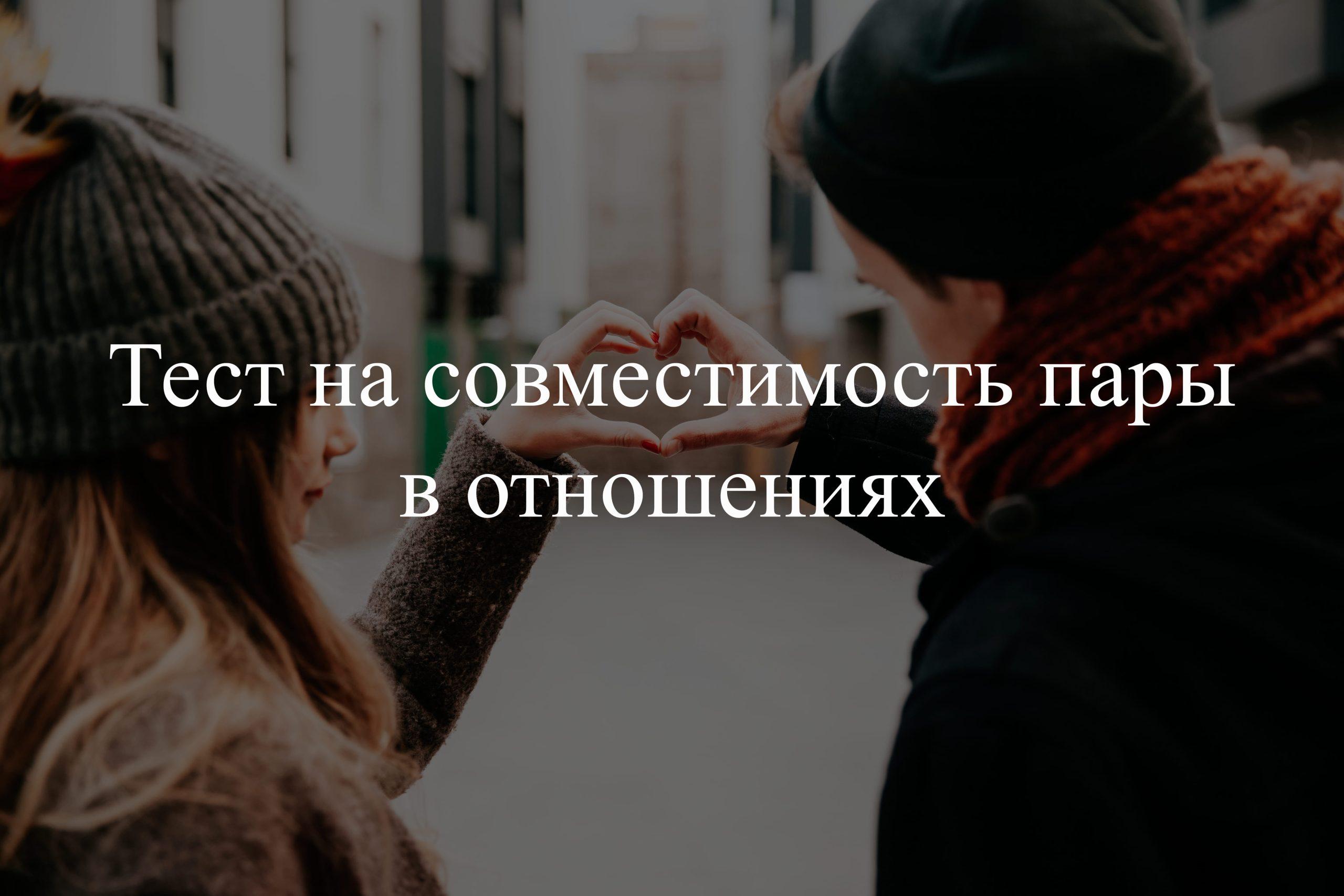
.jpg)
.jpg)
.jpg)
















