ЧАСТЬ I
Глава 1
Изучение личностных особенностей и самосознания при пограничных личностных расстройствах
1.1. Методологическая и теоретическая парадигма исследования самосознания при пограничных личностных расстройствах
Методологический и теоретический анализ представленных в западной психологической литературе точек зрения убедительно доказывает несостоятельность “атомистического” и метафизического противопоставления и изолированного изучения когнитивных и аффективных детерминант целостного процесса самосознания. Основы иного понимания природы и механизмов самосознания вытекают из принятого и развиваемого в отечественной психологии тезиса о единстве аффекта и интеллекта (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н.), самопознания и самоотношения (Ананьев Б.Г., Кон И.С., Рубинштейн С.Л., Столин В.В., Чеснокова И.И.). В конкретных эмпирических исследованиях это важное методологическое положение реализуется в изучении роли индивидуальных и личностных факторов в познавательной деятельности (Брушлинский А.В., Гуревич К.М., Кучинский Г.М., Тихомиров O.K. и др., 1988), в общении (Мясищев В.Н., Бодалев А.А., Петровский А.В. и другие), в структуре индивидуального сознания (Артемьева Е.Ю., Зинченко В.П., Петренко В.Ф., Смирнов С.Д., Шмелев А.Г.), в стиле исполнительского звена деятельности (Гуревич К.М., Климов Е.А., Мерлин B.C. и другие).
В цикле публикаций, начиная с 1970 г., а также в монографиях1 и в тексте доклада, представленного на соискание ученой степени доктора психологических наук (М., 1991) изложены разработанные нами теоретические посылки, экспериментальные и методологические приемы исследования аффективно-когнитивных взаимодействий в структуре перцептивной деятельности. Выявлены недостаточно изученные ранее в патопсихологии разнообразные феномены и механизмы прямого и опосредованного влияния мотивационных и личностных факторов на восприятие, представлены результаты исследования больных шизофренией, эпилепсией, пациентов с локальными мозговыми поражениями, невротическими расстройствами. Проведенные исследования позволили выработать и обосновать целостную теоретическую и экспериментальную парадигму исследования “искажений” самовосприятия и самосознания. В развиваемом подходе к изучению патологии психической деятельности обоснован и реализован принцип опосредованного изучения изменений личности и самосознания как преобразованных форм взаимодействия аффективных и когнитивных процессов в структуре целостного стиля личности. Применение этой методологической и теоретической парадигмы в эмпирических исследованиях позволило выявить ряд новых или недостаточно изученных экспериментальным путем феноменов, закономерностей и механизмов формирования искажений самосознания при пограничных личностных расстройствах.
Развиваемый в работе личностный этико-психологический подход к пониманию особенностей “пограничного” самосознания требует изложения его основных методологических посылок (Соколова Е.Т., 1989, 1991). Его ключевыми понятиями являются пристрастность и смысловая позиция. Первое из них в марксистской психологии традиционно раскрывается через анализ бытийной, прежде всего производительной, деятельности субъекта и имеет совершенно определенное семантическое и лексическое оформление, восходящее к парадигме производства и потребления. Рассматриваемая с этих позиций связь субъекта и присваиваемого им в производительной деятельности мира изначальна, но отнюдь не однозначна и раскрывается через развитие и изменение характера связи субъекта с осваиваемой им реальностью. Первоначально она предстает в своей слитности с потребностями людей — исключительно в качестве удовлетворения их потребностей, как то, что является для них “благами”. На определенных этапах общественного развития эта первичная слитность объектов и опредмеченных в них потребностей разрушается вследствие тех процессов, которые К.Маркс характеризовал как отчужденный труд, отчуждение человеческой сущности, самоотчуждение человека. В рамках этого отчуждения складывается чисто “потребительское” отношение к производству и его продуктам, в результате чего и собственная деятельность (поскольку она является “трудом”) воспринимается индивидом лишь как средство (более или менее “пригодное”) для достижения им не-собственных целей, а следовательно, как чуждое, навязанное извне, от которого нельзя освободиться иначе, как через лишение себя самого необходимого2.
Сознание, отвечающее этим разным этапам развития человеческой деятельности, отличается разным уровневым строением: слитностью значений и личностных смыслов в одном случае и их противопоставлением, вплоть до дезинтеграции — в другом3. В онтогенезе развитие самосознания, как и развитие сознания, связано с движением его “образующих” — чувственной ткани, значений и личностных смыслов, их трансформациями и взаимопереходами, благодаря которым образ Я врастает в надиндивидуальный социокультурный контекст деятельности и обогащается “обертонами” субъективно-пристрастных отношений индивидуальной человеческой жизни. Различение потребности и мотива имеет, на наш взгляд, принципиальные следствия для понимания психологической природы пристрастности человеческого сознания и самих ее форм. Именно благодаря насыщенности потребностями и мотивами самосознание впускает в себя мир и открывается миру, между Я и миром устанавливается полнокровная бытийная связь, репрезентирующая субъекту “мир-в присутствии Я” 4 (Соколова Е.Т., 1991). Однако именно в “укорененности” самосознания, в бытийности, таится угроза сугубо утилитарного, потребительского отношения к миру и собственному Я. Пристрастность, определяемая исключительно через соотнесенность с опредмеченными в мотивах потребностями Я, есть не что иное, как пристрастность “потребления”, вчувствования Я (термин Т.Липпса), атрибуции собственных желаний, представлений и идей в мир, т.е. фактически его приспособление и “уподобление” Я5. Смысловая личностная позиция “потребления” превращает в средства удовлетворения собственных потребностей и других людей, выступающих для субъекта лишь в качестве его “опредмеченных потребностей”. Естественно, она предполагает взаимозависимость, поскольку Другой, вовлеченный, “вчувствованный”, воспринимается не иначе, как часть Я, а его независимое от Я существование переживается как “потеря”.
В отличие от описанной выше “зависимой” смысловой позиции самосознания, отождествляющей Я с другим как объектом потребности и делающей его “частью Я”, самоотчужденное сознание предполагает жесткую дихотомию и противопоставленность Я и Другого, смыслов и значений. Мир презентируется исключительно сквозь призму “благоприятствований” или “преград”, или “хорошего” (удовлетворяющего Я) или “плохого” (фрустируемого Я). Ставшая смыслом, мерилом Я и Других, подобная позиция не может быть ничем иным, как искажением, насилием и разрушением — в широком смысле слова, картины мира и образа Я. “Манипуляторство”, естественное выражение пристрастности подобного рода, — это не только стиль общения, это способ существования, этическая (вернее, аэтическая) позиция по отношению к миру и своему Я, порождающая условное приятие Я и Другого. Таковы два главных паттерна отношений, присущих “пограничной” личности.
1 См.: Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. М., 1976; Она же. Проективные методы исследования личности. М., 1980; Она же. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Экономическо-философские рукописи 1844 года. М., 1974.
3 Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977.
4 Снятие противопоставления сознания и самосознания вполне оправдано методологией настоящего исследования: “пристрастное” сознание всегда предполагает присутствие сознающего Я, другое дело, что “включенность” самосознания не обязательно подразумевает осознанность Я-опыта во всей его целостности и полноте; какие-то его аспекты могут репрезентироваться субъекту исключительно на уровне непосредственно-чувственных и неосознаваемых переживаний.
5 “Мир, — пишет Э.Фромм, характеризуя нарциссическую жизненную позицию, — это один большой предмет нашего аппетита, большое яблоко, большая бутылка, большая грудь; мы — сосунки…”. Фромм Э. М., 1990. С.52.
Исследования патологии психической деятельности – предыдущая | следующая – Методологическая парадигма исследования
Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях



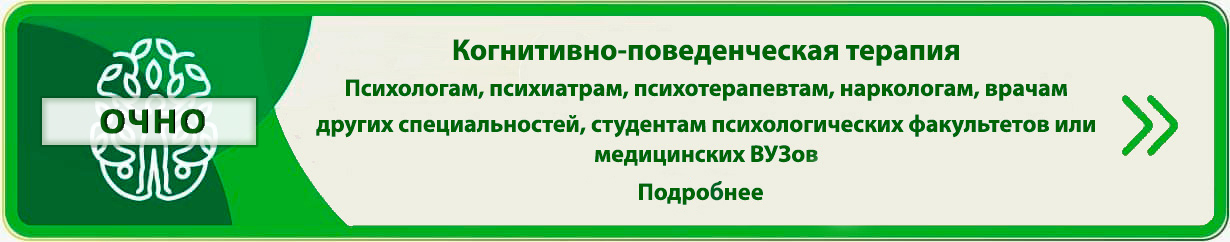


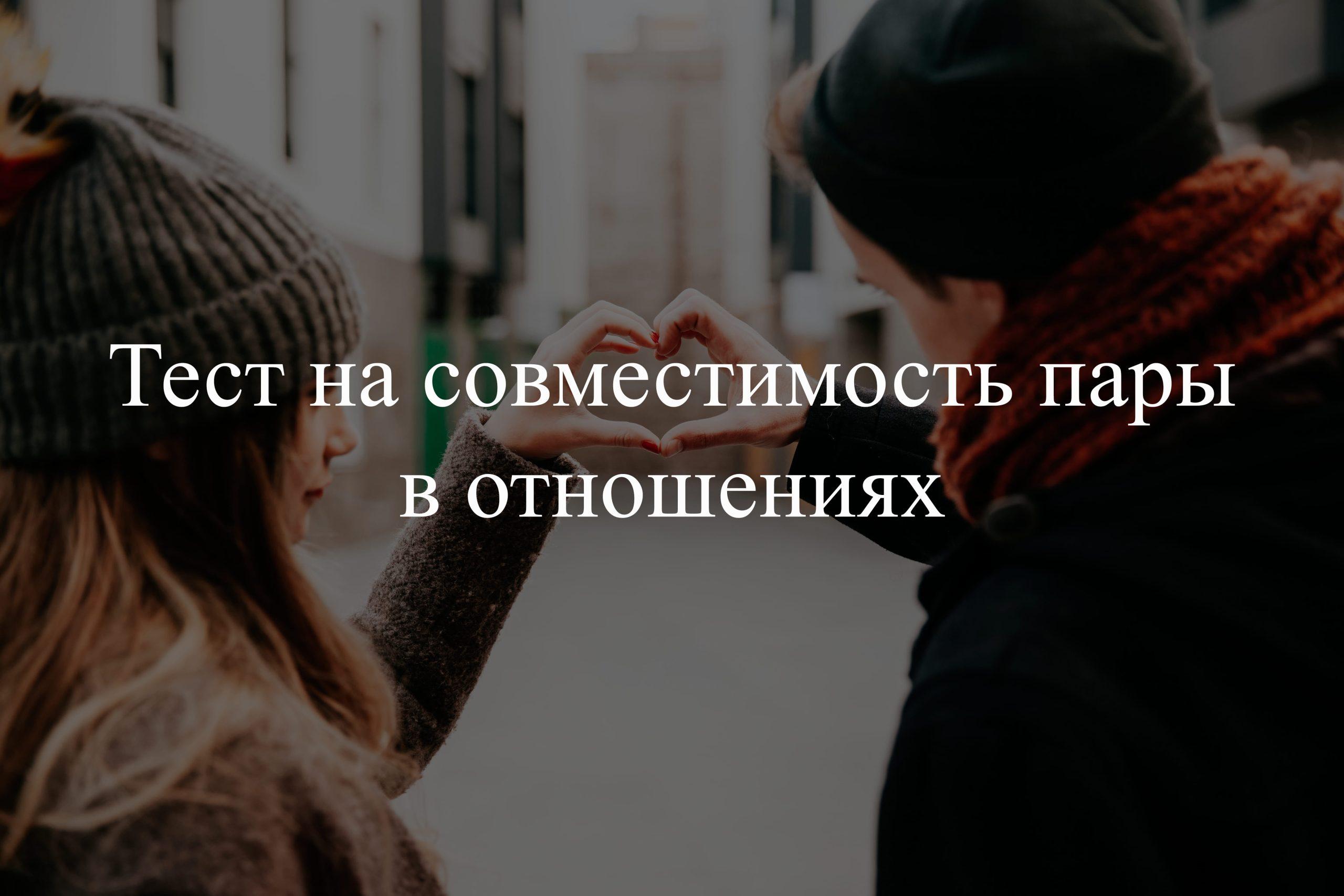
.jpg)
.jpg)
.jpg)
















