Легко заметить, что предлагаемая здесь классификация типов родительского насилия перекликается с попытками ряда авторов, в том числе отечественных, представить феноменологию так называемых неадекватных родительских установок или позиций (см. по этому вопросу также: А.Е.Личко, В.В.Столин, А.С.Спиваковская, А.Я.Варга и другие). Здесь нами акцентируется критический момент несовпадения “языков” родительских и детских посланий, в частности, вербального и невербально-телесного; значительная часть детского опыта, таким образом, не разделяется, “не понимается взрослым”, точнее будет сказать, бессознательно отторгается им. Рассмотрим подробно пять видов “речи” ребенка, не замечаемой или не понимаемой взрослым адресатом: жестовая речь, выход в действие, ритуалы, соматизация и символизация.
Раскрывая предназначения и формы проявления каждого из перечисленных видов речи, будем иметь в виду объединяющий их символический характер и соотнесенность с неосознаваемыми глубоко конфликтными аффективными состояниями и архаическими уровнями сознания. Низкая когнитивная оснащенность и превалирование в сознании пограничных пациентов чувственно-образной модальности репрезентации картины мира и образа Я с очевидностью предполагает продолжающуюся жизнь детских языков самовыражения в их попытках наладить контакт с окружающей действительностью. Не исключено, что в самой этой специфике самосознания и коммуникации пограничных личностей заключен повышенный риск стать жертвой непонимания, поскольку языком самовыражения становится по-преимуществу язык тела, “отщепленный”, изолированный от вербальных, более осознанных языков. Примеры, на которые мы будем ссылаться в дальнейшем, включают, таким образом, реконструкцию детского опыта в ходе психотерапии взрослых пациентов.
Взяв за основу эту классификацию, посмотрим, что она дает для более глубокого раскрытия сущности психологического насилия. Ранее (часть II, глава 1.1) нами подчеркивалась разница между манипуляторной уподобляюще-потребительской смысловой позицией личности и диалогической, предполагающей одновременно и присутствие человека, его сопричастность (“не-алиби” — М.М.Бахтин) бытию, и “вненаходимость”, требующую вслушивания, внимания к Другому, именно как другому, как не подобному Я. Применительно к психологии родительского отношения первая смысловая позиция заставляет видеть в ребенке исключительно часть своего Я — и не более, не замечать, что и как воспринимает и чувствует ребенок на самом деле, если это расходится с родительским видением мира. Напротив, диалогическая смысловая позиция позволяет заметить и оценить инакость Другого, смысл и прелесть ее, это означает — найти общий язык с Другим.
В этой связи вспоминается прекрасный фильм американского режиссера А.Паркера “Птаха”. Герой фильма, американский солдат, травмированный войной во Вьетнаме, воображает себя птицей. Он, скрючившись, сидит на полу палаты-камеры, отказывается от приносимой ему еды, отказывается разговаривать с врачом и другом детства, и по-птичьи повернув голову к кусочку синего неба в окошке, тоскливо и безмолвно смотрит, застывши, в одну точку. Проходит много времени, в течение которого врач и друг безрезультатно пытаются помочь герою. И вдруг однажды он впервые меняет позу и смотрит в глаза своему другу. Это случается в тот момент, когда друг, отчаявшись, принимает ту же позу птицы.
Иными словами, желание и умение постигать язык другого равносильно принятию чувств, мыслей и самой личности этого другого. Именно поэтому ребенок, чьим естественным языком являются жесты, действия, магия и пр., не распознанные или не принимаемые взрослым, чувствует себя жертвой непонимания. Вот почему мы уделяем здесь место генетически “детским” языкам самовыражения, помня, что ими пользуются и взрослые, всегда, когда “нет слов”. Их копирует (“зеркалит”) психотерапевт, посылая пациенту — “Я Вас слушаю, Я Вас слышу”, тем самым начиная общение с диалогических позиций, строя контакт диалог на языке пациента.
Остановимся подробнее на каждом из выделенных “языков”, имея в виду, что все они изначально призваны служить языком чувств.
В жестовой речи ребенок в качестве “слов” использует телесную позу, жесты, выражение лица, взгляд и ритм дыхания, молчание. В них он прямо и адресно выражает свои состояния и чувства (вспомним пример К.И.Чуковского в его известной книге “От двух до пяти” — “Я не тебе плачу, а маме!”), причем отсутствие немедленного “ответного отклика” от адресата сообщения может иметь смысл потери значимого другого. Обращенная на себя (известный защитный механизм ретрофлексии), жестовая речь становится языком телесной боли, горя, “потерянности”, а в том случае, когда контакт не восстанавливается достаточно долго, она способна приобрести функции нарциссической или аутистической невербальной речи, полностью вытеснив речь вербальную.
С помощью жестовой речи ребенок ясно выражает свое актуальное присутствие или отсутствие в “здесь” и “теперь”. Так, феномен смыслового барьера, описанный Л.И.Божович, обнаруживает себя не столько в словах, сколько на невербальном уровне — “пустым” взглядом, упорным молчанием, отсутствующим выражением лица. Заметим, что взрослые нередко “не понимают” жестовую речь ребенка именно по причине ее недвусмысленной выразительности и тем самым невольно обнаруживают свою истинную незаинтересованность или отвержение актуального и реального внутреннего мира ребенка. Незамечание жестовой речи, а вместе с ней глубоких чувств и шире — чувственности, в дальнейшем может привести к раздвоению каналов общения и построению коммуникации по принципу двойной связи.
Выходом в действие достигается моторная разгрузка накопленного вследствие длительных фрустраций аффекта чаще всего во взрывных и разрушительных формах. М.Клейн различает направленные на себя и направленные на других моторные разрядки, по существу отождествляя их с векторами агрессии. С другой стороны, известный детский гештальт-терапевт Мари Пети подчеркивает позитивный смысл “выхода в действие” как альтернативы застою, автоматизму и рутине жизни, создающие возможность встречи и конфронтации с реальностью, даже через страдание и боль. Подчеркнем, что выходом в действие (порой единственно в нем) ребенок удостоверяется в наличии собственного Я, не замечаемого другими. М.Клейн причисляет к импульсивным действиям и более сложные виды отклоняющегося поведения, такие как бродяжничество, драки, воровство, разрушение, посредством которых ребенок пытается выразить целый спектр неудовлетворенных стремлений. Среди них: притязание на собственность, которая находится в руках другого; привлечение внимания и попытка контакта с другим, когда последний не замечает или отказывается от него; защита, в том числе своего телесного Я; отвержение реальности и Другого, длительно или сверхсильно фрустрирующих его.
Добавим, что язык непосредственной чувственности и действия используется ребенком вовсе не исключительно для выражения негативных аффектов — например, бурная радость жизни и “телячий восторг” скорее отражают изначальную доброжелательность, неуемное любопытство и удивление маленького исследователя, встречающего жизнь “нараспашку”. Взрослого же именно эта бесшабашность и пугает, угрожая его собственной привычке держать в узде чувства, т.е. никогда не обнаруживать истинные эмоции и всегда оставаться их хозяином. Страх потери самоконтроля и страх быть захлестнутым чувствами другого лежит за известным воспитательным афоризмом — “детей не должно быть слышно, но всегда видно”. Кстати сказать, подобная родительская установка нередко провоцирует развитие у детей (и взрослых) фобических реакций, в том числе агора- и клаустрофобий.
Родительские послания – предыдущая | следующая – Ритуалы
Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях



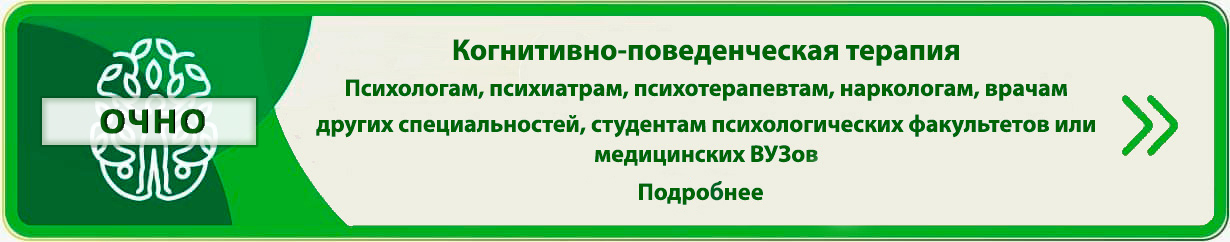



.jpg)
.jpg)
.jpg)
















